Казак ценил одежду не за ее стоимость, дорогую материю, украшения и т п., а за тот внутренний духовный смысл, который она для него имела. Так, он мог штукой трофейного атласа запеленать больного коня, изорвать драгоценный шелк на бинты, но берег пуще глаза мундир или гимнастерку, черкеску или бешмет, какими бы ветхими или залатанными они не были.
Разумеется, казаки, прежде всего, ценили удобство боевого костюма, его «обношенность». Так, пластун в поиск шел только в старых разношенных, удобных ичигах, а кавалерист сначала обнашивал мундир, а только потом садился в седло, опасаясь заработать от новой одежды губительные опрелости и потертости.

Но главным оставалось иное. По верованиям всех древних народов, одежда – вторая кожа. Потому казак, особенно казак-старовер, никогда не надевал трофейной одежды, особенно, если это одежда убитого. Надеть трофейную одежду разрешалось только в случае крайней нужды и после того, как она была тщательно выстирана, выглажена и очищена обрядами.
Казак опасался не только возможности заразиться через чужую одежду, но и мистики. Он боялся, что с чужой одеждой унаследует судьбу ее прежнего хозяина («мертвяк на той свет утягнеть») или его дурные качества.
Поэтому одежда, изготовленная «по домашности» матерью, сестрами, женою, а позже хоть и казенная, но со своего капитала купленная или у своего каптенармуса взятая, приобретала для него особую ценность.
В древности особо отличившимся казакам атаман дарил сукно «на кафтан», понимая скрытый смысл подарка. Скажем, боярин, получивший «шубу с царского плеча», радовался чести, казак же помнил, что это «пожалование» имеет сторону: надеть чужую одежду или облачиться в «чужие покровы» означало войти в чужую волю, она могла быть и доброй, а могла и злой. Тогда, надевший чужую одежду, мог «попасть в чужую волю», то есть стал бы действовать вопреки собственному пониманию добра и зла, и собственному здравому смыслу. Именно это вызывало у казака «смертный страх» – то есть страх, от которого он мог в самом деле умереть или сойти с ума. Ведь это означало потерю воли. Потеря воли для казака была страшнее всего. И это не заточение в темницу, не исполнение какого-то тяжкого обета или приказа, а страх что-то делать помимо своего желания, своего понимания, своей ВОЛИ.

Первой одеждой считалась крестильная рубашка. Рубашку шила и дарила обязательно крестная мать. Надевалась рубашка только один раз – во время крещения ребенка, и после этого сохранялась и сжигалась после смерти человека вместе с первой срезанной прядью волос и личными вещами, подлежащими ритуальному уничтожению (письма, нательная одежда, постель и т. п.). Крестильная рубашка сохранялась матерью и сжигалась ею. Иногда женщина не могла поверить, что ее сын, ее кровиночка, который для нее всегда оставался маленьким, погиб в чужедальней стороне за Веру, Царя и Отечество. И тогда крестильная рубашка сохранялась до последних дней самой матери. С наказом положить ее в материнский гроб. Туда же, в гроб матери, клали рубашки без вести пропавших, которых нельзя было поминать ни среди мертвых, ни среди живых.
Как вспоминает Борис Алмазов, его бабушка не сожгла рубашку своего погибшего сына – его дяди.
– Не знаю, по какой причине это произошло. Может быть, она все еще верила, что сын вернется! Хотя доподлинно знала, что он пал смертью храбрых. Может быть, соблюдала другой обычай: рубашки погибших сжигались через три года после победы. Не знаю! Только дядина рубашка сохранилась. И крестильный крестик, который дядя не мог носить – он был офицер Красной Армии – сохранился. Этот сверток вместе с последними дядиными письмами лежал у бабушки в комоде. Там же хранилась первая пенсия, полученная за убитого сына. Этими деньгами бабушка заплатила за мои крестины.
– У казаков за крестины платит крестный, – вспоминает Борис Алмазов, – и бабушка считала, что дядя, будь он жив, обязательно был бы моим крестным. Уплата за крестины этими деньгами как бы подчеркивала его незримое, небесное покровительство мне. Но чудо все-таки состоялось. Бабушка перепутала свертки! Мой, с новой рубашкой, позабыли, а взяли дядин, и его нательный крест надели на меня, и его рубашку… Таким образом, выходит, что я, носящий его имя, рожденный через три года, в день и час его гибели, крещенный в его рубашке, носящий его крест, продолжаю его жизнь! Я прекрасно понимаю, какое благодетельное действие оказывала на мое воспитание эта мысль: я – продолжение уже состоявшейся, праведной и героической жизни. И я тянулся изо всех сил, стираясь быть достойным убитого героя, чтобы его судьба, его воля, его крестильная рубашка стали мне впору…
Не только крестильная, но и любая нательная рубашка имела ритуальное магическое значение: с больного ребенка рубашку «пускали по воде», если болезнь была тяжелой, но не заразной, и сжигали в костре, если это была «глотошная» (дифтерит) или еще какая-нибудь напасть, чтобы вода и огонь – стихии чистые – пожрали болезнь.
Для казачонка очень важным этапом в жизни было получение первых штанов. Именно с этого времени его начинали учить верховой езде, И в сознании ребенка навсегда соединялось получение штанов – гениального изобретения кочевников, без которого правильная езда невозможна, и первые уроки мастерства, без которого казак своей жизни не мыслил.

«Лучшая конница мира» начиналась с этих широких штанишек из домотканого холста на помочах, перекрещенных на спине, с двумя пуговицами на пузе. Для коренного родовитого казачонка штаны не только первая справа для верховой езды, но и признание его мужского достоинства. Того, теперь уже бесспорного, свидетельства, что он уже большой.
– Батюшки! – всплескивали руками старики, сидящие на майдане. – Григорий Антипыч, да ты, никак, в штанах!
– А то! Я уже большой! – гордо отвечал карапуз.
– Да в длинных! – накаляют обстановку старики.
– С карманами! – золотит пилюлю обладатель новых штанов.
– И с карманами! – поддакивают старики. – Не иначе, отец тебя по осени женить собралси!
«Настоящими штанами» считались шаровары либо брюки, но даже на «малявочную» одежду казачонок требовал и до сих пор требует, чтобы были лампасы.
Что же это такое – лампасы?! Откуда они взялись! Почему с ними, что называется, огнем и мечом боролись большевики. По распоряжению Донбюро РКП (б) (Российская Коммунистическая партия (большевиков) – ред.) за ношение лампасов, как равно и за ношение погон, царских наград, фуражек, мундиров, за слово «казак», «станица» и т. д. – полагался расстрел на месте.
Такова была политика жестокого расказачивания, которая длилась еще десятилетие после гражданской войны. Казачьи погоны и лампасы окрашены кровью жертв революции и геноцида, который за ней последовал.
Так что же означали лампасы? За их что так ненавидели большевики?

Существует легенда, по которому лампасы появились в XVI веке… Царь московский пожаловал казаков наградою за то, что они одни остановили татарское и ногайское нашествие на Русь, рассеяв врагов в степи, собственными жизнями заслонив царство московское от погибели. Царь пожаловал казаков хлебом, ружейным припасом и сукном… Сукно было двух цветов: синего много и алого мало, поскольку алая аглицкая краска была на Руси дефицитом. Если сукна синего хватило всем, то на счет алого вышло на казачьем дуване затруднение. Казаки обратились к московскому чиновнику – приказному дьяку: – Как делит?!

Дьяк посоветовал выделить красного сукна на кафтан атаману. Послушались. Выделили. Как делить остальное?
– Оденьте в красное героев! – посоветовал дьяк.
– У нас тут не героев нет! – ответствовали казаки. – Мы тут все герои – иначе не выжить.
Дьяк растерялся. Тогда казаки разделили сукно по совести, по справедливости – поровну. По две ладони с четвертью. Разобрали длинные ленты, совершенно не пригодные для пошива какой-либо одежды, и дьяк посетовал;
– Сгубили сукно!!!
На что казаки ответствовали:
– Это по твоим московским мозгам сгубили! А у нас в казачестве, может, справедливость наша в потомках и окажется! Поделили честно, по совести, стало быть, Бог нашей справедливости не даст уйти в забвение.
Такую легенду рассказал Борис Алмазов* в книге «Казачий домострой». Некоторые «краеведы и знатоки» подняли его на смех. Однако в Эрмитаже есть доказательства такой легенде.

Официально лампасы на казачьем мундире были введены в 1801 году во времена атамана М.И. Платова. Однако на старинных рисунках мы видим казаков в шароварах, к которым произвольно пришиты ленты. Лампасы были узаконены царским правительством и в 1843 году, возможно, как символ того, что их владелец не платил податей казне. Право на лампасы и околыш имели, например, дворяне. Лампасы по образцу казачьих носили, например, в Нижегородском драгунском полку. Кавказские казаки – кубанцы и терцы – вместо лампасов носили кант! Но ни в одном роде войск, ни в одном сословии лампасы не стали частью национального костюма. Казаков по цвету лампас и околыша можно отличать. Так. Алый цвет у донцов и сибиряков, малиновый – у уральцев и семиреченцев, синий – у оренбуржцев, желтый – у забайкальцев, якутов, уссурийцев, амурцев, и астраханцев.
По воспоминаниям стариков и по письменным свидетельством лампасы превратились в символ принадлежности к казачеству только в гражданскую войну. Они стали знаком сопротивления геноциду и репрессиям. До революции в обязательном, уставном порядке лампасы носили только «военные» казаки строевых возрастов. Казаки начали постоянно носить лампасы, когда их в станицах стало меньше, чем приезжих, которые не имели права носить лампасы. Эта была неосознанная попытка отстоять свою самобытность.

Однако, когда в 1935 году по «сталинской» конституции формально были прекращены репрессии против казаков, когда в 1936 году вместе с возрожденными национальными частями в Красной Армии «возродили» и казачьи части, тогда разрешили носить лампасы, а «головке» – руководящему составу станиц, разумеется, из иногородних настоятельно рекомендовали носить лампасы. И по рассказам стариков «все хохлы понашили ленты на кальсоны, стали ходить и перед казаками красоваться – мы де теперь казаки не хуже вас, недорезанных». Таким образом, это «благодеяние» обратилось еще в одно национальное унижение!
Разумеется, коренные казаки не стали носить штаны с лампасами!
* Алмазов Борис Александрович родился в 1944 году в Ленинграде, через три месяца семья переехала на Дон. Здесь будущий писатель впитал культуру и традиции казаков.
В 1990 году Алмазов начинает участвовать в возрождении казачества и постепенно становится идеологом российского «Союза казаков». Сначала его избирают первым атаманом Санкт-Петербурга, а затем и всего Северо-Западного отдельного казачьего округа.
* Алмазов Борис Александрович родился в 1944 году в Ленинграде, через три месяца семья переехала на Дон. Здесь будущий писатель впитал культуру и традиции казаков.
В 1990 году Алмазов начинает участвовать в возрождении казачества и постепенно становится идеологом российского «Союза казаков». Сначала его избирают первым атаманом Санкт-Петербурга, а затем и всего Северо-Западного отдельного казачьего округа.
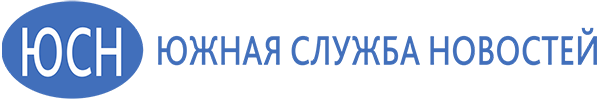
0 комментариев